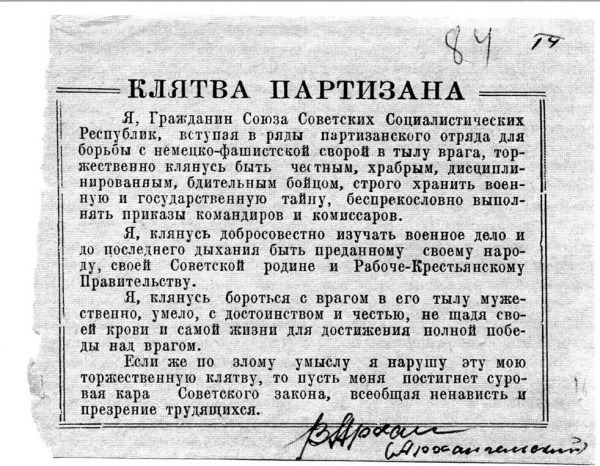В.Н. ЗАМУЛИН
В октябре 1941 г. по распоряжению Управления НКВД по Курской области личный состав бывшего партизанского отряда вместе с частью Прохоровского истребительного батальона, сформированного из жителей сел и хуторов, был направлен для обороны города Курска. Как вспоминал оставшийся в живых боец отряда Алексей Трофимович Гарбузов, оба формирования приняли участие в боях у деревни Курицина Курской области, где во время одной из атак большинство бойцов погибли. Так трагически завершилась история Прохоровского партизанского отряда.
При изучении сохранившихся документов обращает на себя внимание неразбериха и отсутствие элементарной слаженности в работе между областным партийным руководством и органами государственной безопасности, занимавшимися столь важным и сложным вопросом. Так, 2, 3, 4 и 8 декабря 1941 г. Управление НКВД для связи с Прохоровским отрядом, который к тому времени по приказу обкома был направлен под Курск и там практически полностью погиб, были посланы семь связников-маршрутников с задачей не только установить связь с командованием, но и передать приказ-задание четвертого отдела Курского УНКВД. Эту ситуацию довольно красноречиво описывают в своем рапорте от 16 декабря 1941 г. связные Денисий Метесловович Шабельский и Михаил Иванович Регель:
«…на основании полученного задания 3 декабря, мы, того же числа, отправились к месту назначения в Прохоровский район. Придя к месту назначения, обратились к начальнику Прохоровского РО НКВД тов. Фурдину, предъявив свои документы. Тов. Фурдин был удивлен, что посылаются люди для связи с партизанским отрядом, которого, по существу в Прохоровском районе не имеется. Почти весь партизанский отряд и часть истребительного батальона по распоряжению областного руководства были направлены на оборону г. Курска, откуда возвратилась только часть людей. После этого потребовалось вторично организовывать отряд, на что и был представлен список для утверждения, однако последний утвержден не был, а отсюда, как вывод: создания партизанского отряда состояться не могло. Об изложенном говорят тов. Фурдин и секретарь Прохоровского РК ВКП(б) с удивлением, потому что все подробности облруководству известны, но там все же считают, что отряд в Прохоровке существует».
Партизаны одного из курских отрядов во время сборов слушают инструктаж командира
Возникли сложности и с оставленными для конспиративной работы агентами. В основном это были активисты и члены партии. Подобный подход был в принципе оправдан, но в то же время для подполья довоенная биография человека играла важную роль. Ведь первыми шагами оккупантов, пришедших на нашу землю, были аресты и расстрелы именно активистов и коммунистов. Люди об этом прекрасно знали и, естественно, стремились сохранить свою жизнь, даже в ущерб полученных боевых заданий.
Вот краткий отчет о своей деятельности одного из оставленных для подпольной работы жителя села Плота: «Немецко-фашистские войска находились в селе Плота с 19-12.41 по 2.01.42 г. За это время я никакой практической работы не проводил во исполнение данного мне органами НКВД поручения, т. к. я боялся показаться немцам, потому что я считался в селе активистом, был членом правления колхоза, потому сам трусился за свою жизнь».
Одной из важных причин сложившейся ситуации явилось в том числе и нежелание людей, оставленных в тылу врага, сражаться за советскую власть, несмотря на то, что формально, по анкете и должности, они считались активистами. Пример тому — служба у оккупантов бывшего жителя станции Прохоровка Я. Ф. Бендюка (по другим данным Я. Ф. Бендюков). Перед войной Яков Федорович, хотя он и не являлся членом партии, числился в хозяйственном активе района, работал на руководящих должностях, перед самой войной заведовал мельницей. В июле 1941 г. был зачислен в Прохоровский истребительный батальон. Принимал активное участие в эвакуации материальных ценностей.
Однако после ухода советских войск он не эвакуировался в глубь страны, выжидал, хотя возможность уехать была. С приходом оккупантов он был назначен в конце ноября 1941 г. старостой Прохоровки, а летом 1942 г. — руководителем гражданской оккупационной администрации — «начальником района». Это была награда оккупантов за службу и примерную исполнительность. Не могу не отметить, что, по свидетельству очевидцев, Я. Ф. Бендюк во многих случаях не только помогал прохоровцам в решении их житейских проблем в то нелегкое время, но и советовал, как спасти подростков от угона в Германию, через своих людей предупреждал об арестах семей активистов, под благовидными предлогами освобождал заключенных из организованного летом 1942 г. в райцентре лагеря для активистов, осаживал особо ретивых старост и полицаев при арестах и расправах. Эти факты подтверждают мирные жители, которым было суждено пережить оккупацию. До сегодняшнего дня в Прохоровке живы люди, добрым словом вспоминающие этого человека. Их воспоминания мне не раз приходилось слышать. В то же время Я. Ф. Бендюк не предпринимал никаких шагов по организации активного сопротивления врагу, исполнял все распоряжения немецких властей, а в феврале 1943 г., опасаясь мести за измену, ушел вместе с оккупантами на запад. В 1945 г. был арестован в Германии и осужден. Уже в 1990-х гг., после проверки уголовного дела Я. Ф. Бендюка органами юстиции, в реабилитации ему было отказано.
Подобное настроение, двойственность в поведении людей — помогать ближним, но не защищать власть, страну на оккупированной территории — была объяснима не только страхом за свою жизнь. Перед началом войны значительная часть населения была недовольна внутренней политикой советского государства. Социально-экономические преобразования проводились жесткими административными методами, приводившими к большим жертвам и лишениям населения, а в период «ежовщины», в 1937-1938 гг., органы советской власти, партийные организации вели настоящую войну против собственного народа. Аресты и расстрелы десятков тысяч ни в чем не повинных людей стали в это время нормой жизни в советской стране. Необоснованные репрессии затронули и население нынешней Белгородской области. По официальным данным незаконному уголовному преследованию было подвергнуто более 45 тысяч человек. В эту страшную цифру не вошли административно репрессированные, т. е. раскулаченные. Произвол и беззаконие не могли не повлиять на настроение людей, переживших эти страдания. Причем ситуация не изменилась вплоть до начала войны. Система подавления инакомыслия и атмосфера страха, созданные в стране, не позволяли открыто высказывать недовольство, а с приходом немецких войск накипевшее выплеснулось.
Надо признать, что в первые месяцы оккупации многие, кого фашисты не тронули, жили прошлыми обидами и ожиданием — на чью сторону перевесит чаша весов в войне. Подобное настроение отмечалось у населения оккупированных районов вплоть до исхода Сталинградской битвы.
К сожалению, и среди агентов разведывательно-диверсионной сети, оставленной на занятой врагом территории, и среди партизан оказалось немало тех, кто, подобно Бендюку, выжидали. Встречались и такие агенты, кто в первые же дни прихода немцев изъявили желание сотрудничать с ними и в дальнейшем рьяно помогали врагу. Об этом нельзя забывать. Ни в коей мере не оправдывая изменников Родины, хочу отметить, что к предательству человека толкали не только низменные качества характера, но часто и сама «сталинская» система власти, которая «железной рукой загоняла народ в светлое будущее», не считаясь с жертвами.
Кстати, Я. Ф. Бендюк родился в городе Ейске Краснодарского края, служил в царской армии, в пехотном полку, имел офицерское звание — «подпоручик», по болезни был уволен из армии. Занимался, как и большинство крестьян в то время, земледелием. Во время коллективизации их большую семью раскулачили, отобрали землю, дом, и ему пришлось уехать из родных мест. Вероятно, это и повлияло на его решение, когда в октябре 1941 г. встал выбор: уйти к своим в тыл или пойти на службу к оккупантам.
Уже 16 ноября 1941 г., обсудив сложившееся положение, обком признал организацию сопротивления на оккупированной территории неудовлетворительной. Для изменения ситуации была образована оперативная группа из опытных сотрудников обкома и связников-маршрутников. Подпольному обкому было рекомендовано усилить руководство партизанским движением. Однако существенных изменений не последовало. Через месяц обком вновь вернулся к этому вопросу.
13 декабря бюро обкома рассмотрело боевую работу Микояновского партизанского отряда. В решении по этому вопросу бездействие отряда квалифицировалось как организованное дезертирство. Не смогли развернуть успешную подрывную работу и партизанские отряды районов, соседних с Прохоровским. Они не переходили линию фронта, а базировались на территории, не занятой врагом. Их деятельность ограничивалась разведкой ближайших населенных пунктов и частными стычками с обозами противника, которые грабили население прифронтовых сел, находившихся в нейтральной полосе. Из справки о боевой работе партизан Беленихинского района за 10 дней декабря 1941 г.: «19-12.41 г. начальник Беленихинского райотдела НКВД, лейтенант милиции Вобликов, находясь со своим аппаратом и 8 партизанами в с. Черновка Гнездиловского сельсовета Беленихинского района, принял бой с входящей в село группой фашистов до 300 чел. Вобликов разделил свою группу на малые подразделения и, определив каждому задачу, сам открыл из автомата огонь по фашистам.
Через 5-10 минут к Вобликову присоединился партизан Стефан Никандрович Чаплыгин, который в упор застрелил фашиста, находившегося в трех шагах от них. Чаплыгин был ранен, и автомат его выведен из строя.
Несмотря на минометно-пулеметный огонь противника, Вобликов не прекращал вести огонь до полного расхода боеприпасов, а партизан Чаплыгин помогал Вобликову, ведя наблюдение за фашистами.
В результате происшедшего боя было уничтожено 10 немецких солдат, один офицер и несколько человек ранено. В с. Подольхи группа Вобликова взяла в плен немецкого обер-ефрейтора, а в селе Черновка расстрелян немецкий ставленник — «полицай» К. (дезертир Красной армии)».
27 декабря 1941 г. войска Юго-Западного фронта начали Курско-Обояньскую наступательную операцию. На территории Прохоровского района, по линии железной дороги, а также у станций Ржава, Беленихино разгорелись ожесточенные бои частей советских 21-й и 40-й армий и 6-й полевой армии противника, которые продолжались дo конца февраля 1942 г. К началу марта линия фронта стабилизировалась, и обе стороны приступили к созданию сплошного оборонительного рубежа. В этот период самостоятельную разведывательно-диверсионную работу партизаны не проводили. Их деятельность организовывалась и направлялась армейскими разведорганами. Партизаны помогали изучать систему обороны противника, собирали информацию о происходящем в оккупированных селах.
Довольно успешно действовали против захватчиков партизаны Сажновского района. Их отряд не использовался как единая боевая единица, а был разбит на диверсионные группы, которые, проникая за линию фронта, минировали дороги, расстреливали пособников и дезертиров, производили налеты на вражеские обозы. Сохранился ряд отчетов об их работе. Они свидетельствуют, что командование отряда смогло сплотить бойцов, наладить тесное взаимодействие с войсками действующей армии и в силу своих возможностей вело борьбу с врагом.
Из «Справки командования Саженовского партизанского отряда о боевой деятельности до марта 1942 г.»: «….10.XI.41 г. боец партизанского отряда тов. Владимиров провел разведку расположения огневых точек противника в селе Шеино, 15.XI.41 г. данные разведки, добытые бойцом п/отряда Владимировым, были реализованы: группа партизан — Скорняк, Чумринин, Зайцев вместе со взводом бойцов РККА произвели налет на фашистские войска, расположенные в с Шеино. В результате налета с. Шеино было отбито у немецких войск.
15.XII.41 г. бойцы партизанского отряда — М. Т. Зайцев, М. Е. Щеблыкин — провели разведку в с. Терновка, где установили, что в церкви был расположен склад боеприпасов немецкой армии. Данные разведки переданы в 185-ю с. д. Нашей авиацией склад был уничтожен.
25.XII.41 — 2.1.42 г. партизанский отряд держал оборону в селе Мазикино, неоднократные атаки немцев были отбиты.
28.XII.41 г. немцы согнали жителей села Шляховое и под их прикрытием вели наступление на село Мазикино. П/отряд вступил в бой, в результате атака немцев была отбита с потерями: убитыми и ранеными.
8.I.42 г. в районе Бахарского моста приземлился немецкий самолет. Находящийся в этой местности боец партизанского отряда Демичев пленил 4 летчиков и доставил в штаб стрелкового полка 185 с. д. в с. Мазикино. (Самолет подбит в Короче.)
28. I.42 г. боец Демичев С. С. в расположении войск врага в Мелехове уничтожил связь противника, срезав 200 метров провода».
В мае 1942 г., в связи с крупным поражением советских войск под Харьковом, ситуация на участке советско-германского фронта, проходившем по нынешней территории Белгородской области, резко осложнилась. В конце июня немецкая 6-я полевая армия перешла в наступление, и к концу месяца враг оккупировал весь Прохоровский район, а через неделю вышел к Воронежу. Прохоровка оказалась в глубоком тылу. Прохоровский райком ВКП(б) и сотрудники РО НКВД, действовавшие до этого времени в прифронтовой зоне, вынуждены были свернуть свою работу, и, как свидетельствуют обнаруженные документы, в период оккупации на территории района какие-либо воинские формирования, в том числе и партизанский отряд, боевых действий не вели, за исключением разведгрупп, которые периодически посылались советским командованием для сбора информации.
Изучая эту тему, приходилось слышать предположение, а иногда и утверждение о том, что в Прохоровке действовала подпольная организация. Результатом ее работы якобы стал взрыв осенью 1942 г. эшелона с боеприпасами у железнодорожного вокзала. Одной из организаторов этой акции в печати называлась жительница райцентра Мария Габелко. Кроме того, среди старожилов бытует мнение, будто бы в деятельности этой мифической организации принимал участие и Я. Ф. Бендюк. Предоставленные Управлением Федеральной службы безопасности по Белгородской области документы эти предположения не подтверждают. Есть версия, что легенда о подпольщиках основана на слухах о созданном партизанском отряде в Прохоровке, которые возникли после возвращения оставшейся части партизан из района города Курска.
Кроме того, в конце июня — начале июля 1942 г. в районе города Старый Оскол и поселка Чернянка были окружены несколько соединений 40-й и 21-й армий Юго-Западного фронта. Незначительной части пленных удалось вырваться из «кольца», и они рассеялись по территории области. По приказу немецких военных властей местные полицейские периодически проводили облавы в селах и хуторах с целью поимки солдат. Арестованных обычно содержали в небольших лагерях. Такой лагерь был организован и в Прохоровке, во дворе бывшей средней школы. Вероятно, у жителей райцентра и остались в памяти периодические сборы и выезды «полицаев за партизанами», а пленные красноармейцы могли ассоциироваться с захваченным подпольщиками. Об организованных въездах полиции для сбора оружия и захвата «окруженцев» в окрестности райцентр свидетельствовал на допросах и бывший начальник Прохоровской районной полиции И. Е. Молдачев. По его словам, всего было задержано и заключено в лагерь более 200 красноармейцев. В то же время он отрицал, что в районе действовали какие либо организованные вооруженные формирования или подпольная организация.
На легенду о подполье работал и тот, факт, что Я. Ф. Бендюк часто помогал прохоровцам. Однако делал он это, исходя из своих соображений, а не по решению подпольной организации. Об этом он сам рассказывал после ареста в 1945 г. следователям «Смерша» (советская контрразведка «Смерть шпионам»).
Таким образом, с большой долей уверенности можно утверждать, что организованное сопротивление оккупантам на территории Прохоровского района прекратилось с отступлением частей Красной армии в июне 1942 г. к Воронежу. В то же время, учитывая, что подпольные организации и партизанские отряды создавались в условиях повышенной секретности, нельзя исключать того, что со временем могут быть обнаружены документы, свидетельствующие об обратном положении дел.
В.Н. ЗАМУЛИН,
кандидат исторических наук
Редакция сайта благодарит автора за разрешение на размещение материала.
Короткая ссылка на эту страницу:
 18 июня, 2013
18 июня, 2013 Опубликовано в рубрике
Опубликовано в рубрике